невеселая карикатура
Яна ЮЗВАК
Серединное время
объяснительное предание
 Как-то решил Торквемада прогуляться по
городу. Скинул ветрено одежды свои полномочные,
напялил шутовской колпак на выбритость
макушечно-католическую, снял крест золотой и
тяжёлый материалом — и был таков. Как-то решил Торквемада прогуляться по
городу. Скинул ветрено одежды свои полномочные,
напялил шутовской колпак на выбритость
макушечно-католическую, снял крест золотой и
тяжёлый материалом — и был таков.
Первое, во что вляпался Томас, был вечер — вязкий,
как кровь Христова, факельный, будто пещера
монастырская, гулкий, словно сосуд, осушенный
чёрным послушником. Пока его глаза привыкали к
очертаниям каменным, простонародная собачонушка
кличкою Луис пометила его правый сапог и
принялась весьма скудно испражняться на левый.
Это было вторым, во что вляпался Великий
Инквизитор.
Наказание за собачью откровенность последовало
сразу, как только Томас, поведя ноздрями, опустил
голову к ногам своим: он захватил собачоношный
хвост в кулак, повертел псиною над колпаком три
раза по часовой стрелке и шмяканул Луисом по
вымощенному тротуару.
— Так тебе, бесовское отродье, — зашипел
Инквизитор и плюнул те же три раза мокротами
генеральными через плечо, переодетое странно.
Фонарщики нбсались по улицам Фениксами, слывя
благими и невинными, потому как за то, что порой
они нещадно палили бороды благородным господам и
жгли дорогие платья прекрасным сеньоритам, —
ничего им не было, кроме слов, известных всем
нормальным европейцам, ибо давали они свет и
зрение и себе, и другим, и городу призрачному.
Увернувшись от одного такого огненного бегуна,
Торквемада заприметил серую вывеску, где по
воску углем хозяин нацарапал: «Обувь чищу днём и
ночью: будь ты царь, а будь ты кормчий!»
«Прав был Платон, но об этом потом», —
пошевелилось под колпаком у Томаса, и он постучал
чугунной дверной ручкой о доски — тоже
дверные, но дубовые.
С другой стороны, внутри, шаркали, шептались и
шуршали, но жажда денег заставила автора обувных
строк отвориться.
Перед Торквемадой стоял пейсоватый слепой
старикашка со свечой в костистой руке. Он
покрутил носом около силуэта гостя и печально
заключил:
— Так, понятно — опять ничего стоящего.
Усаживайся, — и присобачил пару сучьих фраз, но
на них Генералу-Инквизитору потребовался бы
переводчик, ибо был Томас к таким душеизлияниям
непривычен.
Обувщик достал уже щётки свои, мастики, воск, и,
морщиня без того не гладкие щёки, философски
приступил к старому делу.
— Кто-таки пожаловал в позднь несусветную ко мне,
честному в поколениях Абраму?
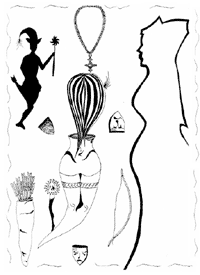 —
Великий Инквизитор! — взголосил Томас. —
Великий Инквизитор! — взголосил Томас.
— А чо дерьмом воняет?
— ...
— А-а-а?
— Да придурок один, вроде тебя, опростался от
страха.
— ... — только звук щетины свиной по коже. — Уж
не тот ли трус, что разнес по всей Гишпани, мол,
Томас де Торквемада пахнет свиными ушами и дымом
от Колумбовых листьев, поэтому люд наш прозвал
его Торчок-Томас?
Посетитель не успел ни опомниться, ни
разгневиґться, хотя на этот раз толмач ему вовсе
не понадобился.
— Всё!.. — разделался нечестивый старикашка. —
Давай плати — а то знаем мы вашего брата...
— Какого такого брата? — Испугался впервые за
столько лет Великий Инквизитор, вспомнив, как
полнолунной ночью придушил папиного любимчика
Хавьера Торквемаду семи лет от роду.
— Ладно, ступай, клоун, — обувщик почти
выталкивал своего гостя, хлопая его кулачком в
спину, — и держи колпак по ветру, дуралей!..
В честном раздражении Абрам затворил дверь,
разжал вощёный кулак свой и поднёс к слепому
лицу. Монетку Абрам излизал раз десять: во-первых,
потому что был беззуб как младенец, а потом —
чего-то он, наверное, сразу не понял:
— Надо же! — наконец сообразил
обувщик-чистильщик, — растёт Гишпань, что твой
виноград, Ной! Шут шутом, а платит золотом... — И
ринулся в пляс.

Торквемада плёлся, беспощадный и беспомощный.
«Значит, Торчок-Томас, да? Значит, уши свиные и
листья колумбовые? Значит, по ветру? Ну-у-у...
Удавлю-гада! Только б не забыть по утру...»
А с памятью у него становилось всё хуже и хуже —
да так, что его, длань Божью, суд земной,
расправителя судеб человеческих, порой заносило
в случайную гуманность и в настойчивые ошибки —
большей своею частью пунктуационные.
Когда он третий раз подряд в предложении казнить
нельзя помиловать поставил запятую там, где
разверзаются уста любви к ближнему своему,
приближённые его было подумали, что Его
Преосвященство Генерал-Инквизитор, пожалуй, или
умом сошедши, или рукою не твёрды, — да и стали
плести интриги сугубые, как походы давешние,
крестовые.
«Только бы не забыть», — убеждал себя переодетый
гнев Господень.

Вот и городу конец. Вот и дом. Вот и окно. И свеча
в нём игристо пляшет, словно и спать не пора.
Знает этот дом Томас, может быть, даже и любит в
нём слегка погостевать за вином, за едою щедрою,
за разговором старым, почти из детства. Хозяин
знатен, хотя и подспуден в помыслах. Чист на руку
и тяжёл взглядом. А дочь его, Эврика, красавица —
каких на костёр. Вот она, бесстыжая, Евою сидит,
волосы гребнем с каменьями благородными
бороздами делит. А волосы золотые и по полу
водорослями колышутся. Закончила, приложила
пальцы светлые к груди белой, губами дует —
молится, значит. Закончила, забралась в постель,
приложила пальцы к груди...
Тьфу... Торквемада аж покраснел, и кровь
прилипла ко лбу и к белкам его — как ничья кровь
не омывала лезвия разные, к пыткам привычные.
Закончила...
Вот и чёрная гадость эта хвостатая вышмыгнула
откуда-то, забралась на живот девичий и ластится,
будто и можно ей всё. А та, что на костёр, дует
что-то в губы и поглаживает. Тьфу! Свечу задула,
бестия!

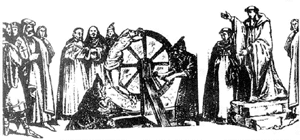 Великий
Инквизитор вернулся слабым рассветом. Сорвал
колпак шутовской, напялил одеяния нужные, с
трудом непосильным поднял властной рукой крест
цепной и свалился в холоднющую постелю, засыпая. Великий
Инквизитор вернулся слабым рассветом. Сорвал
колпак шутовской, напялил одеяния нужные, с
трудом непосильным поднял властной рукой крест
цепной и свалился в холоднющую постелю, засыпая.
— Торчок. Свиньи. Предсказано тебе было: закончишь
дерьмом собачьим и женщиной на окраине.
Кликуша. Платон точно был прав.
— А-а-а — Абрам-обувщик. Кошки. Девять жизней.
Девушки с кошками. Кошки с девушками делятся
жизнями. Ведьмы. Почему их так много? И все
походят друг на дружку. Красивые. Простоволосые.
Зеленоглазые. Я — земное чистилище Гишпании. Все
походят друг на... Кошки делятся... Так это одна и
та же... С костра на костёр... Из века к веку... Одна и
та же... Эврика!
И помер.
Это было последним, во что вляпался Томас де
Торквемада.
|
 Как-то решил Торквемада прогуляться по
городу. Скинул ветрено одежды свои полномочные,
напялил шутовской колпак на выбритость
макушечно-католическую, снял крест золотой и
тяжёлый материалом — и был таков.
Как-то решил Торквемада прогуляться по
городу. Скинул ветрено одежды свои полномочные,
напялил шутовской колпак на выбритость
макушечно-католическую, снял крест золотой и
тяжёлый материалом — и был таков.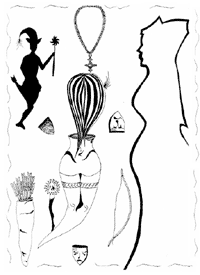 —
Великий Инквизитор! — взголосил Томас.
—
Великий Инквизитор! — взголосил Томас.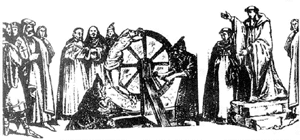 Великий
Инквизитор вернулся слабым рассветом. Сорвал
колпак шутовской, напялил одеяния нужные, с
трудом непосильным поднял властной рукой крест
цепной и свалился в холоднющую постелю, засыпая.
Великий
Инквизитор вернулся слабым рассветом. Сорвал
колпак шутовской, напялил одеяния нужные, с
трудом непосильным поднял властной рукой крест
цепной и свалился в холоднющую постелю, засыпая.