литературная историософия
Андрей ПОЛОНСКИЙ
Фауст и другие
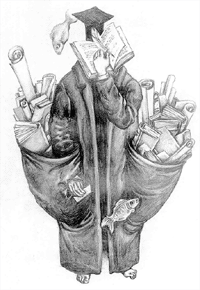 Он
ищет истину, философский камень, верную подругу,
веселую подругу, он скачет козлом и ведет за
собой козла, в черном плаще, с мрачным спутником,
он отматывает версты безнадежной дороги, — от
замка к замку, от города к городу, — с
суеверным страхом шарахаются от него боязливые
домохозяева, но их дочери всё равно попадают в
его объятия. Он
ищет истину, философский камень, верную подругу,
веселую подругу, он скачет козлом и ведет за
собой козла, в черном плаще, с мрачным спутником,
он отматывает версты безнадежной дороги, — от
замка к замку, от города к городу, — с
суеверным страхом шарахаются от него боязливые
домохозяева, но их дочери всё равно попадают в
его объятия.
Черый кот, ящик Пандоры, черная собака, граммофон,
лампочка Эдисона, тысяча магических заклинаний,
вскрытие трупов в поисках души, операции на
аппендиксе, радиосигналы, наблюдение за ночными
светилами, рецепты от лихоманки и лихорадки, идея
прогресса, пароход, паровоз, самокат, память о
некогда обретенном и утраченном эликсире
бессмертия, десятки революций, сотни войн, речи с
броневика, гордые слова перед расстрелом, фаллос,
рвущийся в космос, фаллос, бьющий в цель,
энциклики, энциклопедии, и труд, труд, труд во
славу человечества, где покой, как известно, есть
душевная подлость...
Почти всё может доктор Фауст, заключивший от
скуки договор с одним из мелких чиновников
адской иерархии, плутом и забавником с хорошим
именем Мефистофель. Несколько столетий подряд, в
совершенном одиночестве, прогибал он тяжестью
своих прыжков довольно хлипкий настил на
подмостках европейской жизни. Мефистофель шалил,
Фауст витийствовал всерьез, порой забывая о
договоре, — другие архетипы дремали.
Лишь одно было не под силу ученому безобразнику,
пылкому оратору и преобразователю Вселенной —
признать совершенство настоящего.
Действительно, удачно придумано. Скажешь:
«Остановись мгновенье, ты прекрасно!», — и всей
твоей истории конец, не так ли, любезнейший
господин Гёте?
«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый
день идет за них на бой!» — эти слова черта
украшали детский календарик, который любезные
родители вывесили над моей кроваткой лет эдак в
семь, едва я только выучился читать.

 ...Как-то неожиданно фаустовский порыв
иссяк. Пропал интерес к научным изданиям, к
открытиям, техническим рекордам и прочей высокой
магии. Сухой Геннон с пафосным Элиаде и
претендующим на художественность Майринком едва
ли заменят прозаика Маркса и поэта Ницще. Будто
дух, некоторое время тому назад выпущенный из
закупоренного сосуда, набедокурил, делая вид, что
исполняет просьбы братьев вольных каменщиков и
их мастера из Веймара; набедокурил, а потом
растворился в воздухе. ...Как-то неожиданно фаустовский порыв
иссяк. Пропал интерес к научным изданиям, к
открытиям, техническим рекордам и прочей высокой
магии. Сухой Геннон с пафосным Элиаде и
претендующим на художественность Майринком едва
ли заменят прозаика Маркса и поэта Ницще. Будто
дух, некоторое время тому назад выпущенный из
закупоренного сосуда, набедокурил, делая вид, что
исполняет просьбы братьев вольных каменщиков и
их мастера из Веймара; набедокурил, а потом
растворился в воздухе.
То есть люди вовсе не устали преображать мир, нет,
отнюдь, они делают это с не меньшим упорством,
чем, скажем, лет сто назад, но с какими-то более
мелкими, вовсе не метафизическими целями. Всё как
будто бы для хозяйства, для своего маленького
блага, из собственной неосторожности, не ввиду
договора и не под диктовку.
Когда это произошло? Быть может, во второй
половине ХХ века, — в ту пору сошлись все
свидетельства, и стало ясно, что Фауста и
Мефистофеля, эту парочку неразлучных всадников,
слишком часто видели на дороге, ведущей от медных
рудников Экибастуза прямиком в Освенцим...
Нет, скорее чуть позже, когда обнаружилось, что
сюжеты исчерпаны и поэты начали щеголять
цитатами и заимствованиями, из которых
постепенно вырастала новая мифология...
И уж наверняка — совсем недавно, после того, как
один японский американец или американский
японец заявил, что история завершилась.
Завершилась история Фауста, — забыл добавить он.

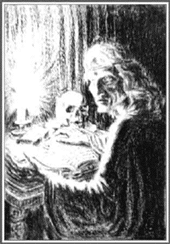 Тут
есть один очень любопытный вопрос. Наверное,
многие чувствовали, что концовки большинства
великих сочинений XVIII и XIX веков как-то провисают,
не очень-то в них верится. Как бы сочинял автор
роман или трагедию, сочинял, а зачем — забыл. А
потом вспомнил, и ну эпилог дописывать. Тут
есть один очень любопытный вопрос. Наверное,
многие чувствовали, что концовки большинства
великих сочинений XVIII и XIX веков как-то провисают,
не очень-то в них верится. Как бы сочинял автор
роман или трагедию, сочинял, а зачем — забыл. А
потом вспомнил, и ну эпилог дописывать.
Гётевский «Фауст» — в этом случае не исключение,
скорее, одно из первых звеньев длинной цепи.
Вторая часть этой пиесы для мироздания с
оркестром выглядит вообще немного ходульно, а уж
развязка — тем более. И потом: на собственном
опыте мы знаем, что никуда не делся господин
Фауст, почти два столетия еще ходил меж людей,
посмеивался. Одна опера Гуно чего стоит: «Люди
гибнут за металл, Сатана там правит бал» — и т.д.
Причем здесь Сатана? — поразительное
мистическое легкомыслие, свойственное людям XIX
века. Представьте себе, на протяжении
десятилетий в каждой европейской опере, ну хотя
бы раз в месяц, звучала эта эффектная ария, и дамы
в бриллиантах, и мужчины в строгих костюмах,
полагая, что приобщаются к высокому, вставали и
аплодировали...
Так вот, нынешнее исчезновение Фауста, —
связано ли оно с тем, что чернокнижника навеки
удовлетворила общая картинка человеческого
существования, — или, напротив, насмотревшись
на плоды своих дел, он наконец научился ценить
мгновение между вчерашней целью и завтрашним
замыслом?
А быть может, его осенило, что застывший миг — это
и есть ад?
То есть сидит нынче наш герой в маленькой
квартирке на Манхэтене. Антикварная мебель,
книжные шкафы, битком набитые средневековыми
рукописями. Сидит он в халате, на постели, ворот
расстегнут, на худой шее медальон с черным
турмалином. В окна бьет яркое солнце, и
Мефистофель, одетый во вполне уместный для него
кафтан слуги, чуть прихрамывая, поднес хозяину
чашку отменно сваренного кофе.
Черт уже отпустил чашку, Фауст ее еще не взял. Но
его время остановилось. |