Какого-либо аппарата для измерения степени талантливости еще не изобретено, и, конечно, никогда изобретено не будет.
У всех нас есть в душе некая, унаследованная и личным опытом проверенная шкала оценок; мы чувствуем первоклассное, второсортное, третьесортное, но законом объективного размещения людей и талантов по этим рубрикам не владеем.
Ф.А.СТЕПУН
Оригинальный русский философ, культуролог,
политолог, социолог, публицист, литературный и
театральный критик, писатель Федор Августович
Степун (1884—1965) менее всего походил на узкого
профессионала, он был человеком весьма широких
интересов и многообразных дарований. Его
небезосновательно сравнивают с деятелями
европейского Ренессанса.
«В Степуне воплотился не только ученый и
мыслитель, прошедший суровую школу
неокантианства, и социолог, обученный
Михайловским, Максом Вебером и Г.Зиммелем, но и
художник, романист и повествователь, тонкий
литературный критик — и знаток театра ...
посвященный во все мистерии сцены, экрана и
актерского искусства; и пленительный артист,
рецитатор и режиссер. Вместе с тем он был и
замечательным стилистом, и притом двуязычным,
владевшим как художник словами немецкой речью
настолько же хорошо, как и русской, — и не только
как эссеист, мемуарист и повествователь, но и как
выдающийся оратор и блестящий академический
учитель».
Некоторые из учеников Степуна, оставившие о нем
воспоминания, отмечают, что творчество его было,
прежде всего, устным — разговоры, беседы, диспуты
и, конечно, лекции. Вот, например, как одна из
поклонниц Степуна, не раз посещавшая его лекции в
Мюнхенском университете (там он преподавал с 1947
г. историю русской философии и социологии),
описывает настроение аудитории: «И вот он
вышел, — зал заорал... Зал бушевал. Да, нигде
таких оваций мне не приходилось слышать, разве
что после концертов Святослава Рихтера, уже
через много, много лет. Но эти овации до, от
радости предчувствия, от благодарности за
восприятие накануне».
![]()
Будучи ярым противником теории и практики
марксизма-ленинизма, Степун многие десятилетия
выступал против советского строя, «отменившего
человека».
Осенью 1922 г. он был выслан из советской России и
обосновался в Берлине, в то время одном из
главных культурных центров Русского зарубежья.
Еще молодым человеком, до своей высылки, Степун
уже стал заметной фигурой в философских кругах
России. Он был близок к направлению, известному
как философия жизни, а затем и к философии
немецкого романтизма. Кроме того, его знали в
России и как практика литературно-издательского
и редакторского дела, как основателя
международного философского альманаха «Логос»,
издателя и редактора альманаха «Шиповник».
Степун служил в Военном министерстве Временного
правительства, у бывшего террориста Бориса
Савинкова. Познакомившийся со Степуном в 1917 г.
Илья Эренбург недоумевал.
«Я знал, — писал Эренбург в книге “Люди, годы,
жизнь”, — что Степун — философ, что он написал
интересную книгу “Письма прапорщика”, в которой
показал войну без обязательной позолоты. Меньше
всего я мог себе представить его исполняющим
должность начальника политического управления
Военного министерства. Лицо у него было скорее
мечтателя или пастора».
Через два года в жизни Степуна произошло,
пожалуй, не менее парадоксальное событие: в 1919 г.
по протекции А.В.Луначарского его назначили
заведующим репертуаром и помощником режиссера Показательного
театра революции.
После прихода Гитлера к власти Федор Степун стал
«двойным» эмигрантом: изгнанный с родины, в
нацистской Германии — эмигрант внутренний.
Ведомство Геббельса запретило его книгу «Театр и
кино» — «за авангардистское понимание
искусства».
В 1937 г. он был обвинен в пропаганде «христианства
и еврейства», лишен профессорства, ему был закрыт
доступ во все учебные заведения страны. Только
после войны Степун получил возможность работать
в Мюнхенском университете на специально
созданной для него кафедре русской истории и
русской культуры.
В России Степуна до самого последнего времени
издавали мало. География городов, в которых
печатались его труды на русском языке, довольно
широка, и они, эти города, по большей части
находятся вне пределов нашей страны: Берлин,
Мюнхен, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Питтсбург.
![]()
 Степун
очень подлинный автор (он сам любил это
слово и наделял таким эпитетом наиболее
значимых, с его точки зрения, писателей). Под
подлинностью он подразумевал не только верность
себе, своему таланту, но и «органическое единство
между человеческой особью и абсолютной истиной».
Степун
очень подлинный автор (он сам любил это
слово и наделял таким эпитетом наиболее
значимых, с его точки зрения, писателей). Под
подлинностью он подразумевал не только верность
себе, своему таланту, но и «органическое единство
между человеческой особью и абсолютной истиной».
По мнению Степуна, подлинность автора
проявляется в том, что он не сливает свое
творчество «с чужой истиной, с чужой идеологией,
с чужим социальным заказом». Плох тот мыслитель,
который раздувает свое я «мехами чужих, не личным
опытом добытых, не своей жизнью взращенных и
оплаченных истин».
Таковым Степун и сам старался быть, культивируя и
лелея в себе подлинность. Возможно, поэтому его
творчество может показаться несколько
старомодным, консервативным. Он не сближал его
(сознательно или бессознательно) с так
называемым духом времени, не стремился к дешевой
занимательности. Зато были точность,
оригинальность мысли, глубина постижения.
Степун — сторонник историософии и философии
всеединства, последователь
религиозно-реалистического символизма
(трактовка культуры и искусства как обозначения
опытно не воспринимаемого мира). Понять причины
большевистской революции, найти пути
возрождения России — так, пожалуй, можно
определить главную задачу историософских и
политологических трудов Степуна.
![]()
В эмиграции Федор Степун стал одним из наиболее
заметных выразителей пореволюционного сознания,
считавших большевистскую революцию
закономерным результатом истории России и
называвших ее «революцией народной».
Особенность принятия Октября Степуном —
переживание собственной вины за свершившееся, за
то, что, не задумываясь о последствиях, он, как и
многие другие представители интеллигенции,
помогал ее осуществлению.
Степун воспринял революцию как грех России и,
стало быть, как собственный грех. Но большевизм
не только грех родины — он еще «грех социализма
перед самим собой». Стало быть, полагал Степун,
«ложно и некритическое взваливание на социализм
всей ответственности за всё натворенное
большевиками».
Степун, как и другие новоградцы (по названию
журнала «Новый град», издававшегося в Париже в
1931—1939 гг.), отождествлял революцию с болезнью
русского духа и видел ее симптомы во всех сферах
жизни пореволюционной России.
Во многих работах Степун подчеркивал, что
Советский Союз не чужероден России. Если бы
большевизм был неким «идеологическим татарским
(т.е. марксистским) нашествием», то самые страшные
последствия революции не только не могли бы быть
предсказаны, но и описаны русскими писателями.
Он полагал, что Карл Маркс вообще в
большевистской революции «никакой мало-мальски
существенной роли не играл». Не играли в ней
реальных ролей и русские марксисты, начиная с
Плеханова (одна их часть была арестована, другая
— эмигрировала, третья — изменила сама себе). «Да
и как могла вспыхнуть марксизмом взвихрившаяся
Россия, когда в России не было пролетариата?» —
задавал риторический вопрос Степун в статье «О
будущем возрождении России», впервые
опубликованной в «Вестнике студенческого
христианского движения» в 1965 г.
Тезис Степуна, что большевизм — явление не
случайное, не искусственное, вовсе не содержал
положительной оценки большевизма и революции.
Наоборот, большевизм для него неприемлем, прежде
всего потому, что он утверждает тотальность как
верховный признак жизни и что в его идеологии нет
места для конкретного человека.
Этим мировоззренческим постулатом объяснялось,
почему большевики из «печального недоразумения»
русской жизни превратились в грозную мировую
силу. Именно в условиях большевизма, а затем и
национал-социализма возникла и укрепилась одна
из «моделей политического и хозяйственного
стиля XX века», характеризующаяся господством
идеократии.
Для Степуна, как и для Розанова, Октябрьская
революция была «Апокалипсисом нашего времени».
Недаром он часто обращался к розановским
работам. События 1917 г. для него — «скифское
пожарище», «скифская реализация
безбожно-рационалистического европейского
социализма», «язва», «болезнь», а Ленин —
«неистовый узурпатор».
![]()
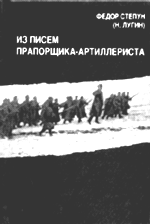 3 июня 1917 г. Степун участвовал в работе I
Всероссийского съезда рабочих и солдатских
депутатов, на котором выступал Ленин. В одной из
статей цикла «Мысли о России» (1927) мыслитель
вспоминал: «Слушая первые ленинские речи, я
недоумевал: он говорил изумительно убедительно,
но и изумительно бессмысленно. Основною чертою
психологии и идеологии его речей была не
простота (настоящая простота внутренне всегда
сложна), а какое-то ухарски-злостное
упростительство... Его непобедимость заключалась
не в последнюю очередь в том, что он творил свое
дело не столько в интересах народа, сколько в
духе народа, не столько для и ради народа, сколько
вместе с народом, т.е. созвучно с народным
пониманием и ощущением революции как стихии, как
бунта».
3 июня 1917 г. Степун участвовал в работе I
Всероссийского съезда рабочих и солдатских
депутатов, на котором выступал Ленин. В одной из
статей цикла «Мысли о России» (1927) мыслитель
вспоминал: «Слушая первые ленинские речи, я
недоумевал: он говорил изумительно убедительно,
но и изумительно бессмысленно. Основною чертою
психологии и идеологии его речей была не
простота (настоящая простота внутренне всегда
сложна), а какое-то ухарски-злостное
упростительство... Его непобедимость заключалась
не в последнюю очередь в том, что он творил свое
дело не столько в интересах народа, сколько в
духе народа, не столько для и ради народа, сколько
вместе с народом, т.е. созвучно с народным
пониманием и ощущением революции как стихии, как
бунта».
По мысли Степуна, Ленин — в отличие от других
деятелей революции — быстро овладел «догматом о
тождестве разрушения и созидания», пойдя на
поводу у «революционной толпы» и не желая
откладывать «дело на завтра».
«На этом внутреннем понимании зудящего
“невтерпеж” и окончательного “сокрушай”
русской революционной темы он и вырос в ту
страшную фигуру, которая в свое время с такою
силою надежд и проклятий приковала к себе глаза
всего мира. Для всей психологии Ленина
характернее всего то, что он в сущности не видел
цели революции, а видел только революцию как
цель».
Захват большевиками власти в России Степун
сравнивал с победой национал-социалистов в
Германии, которые в отличие от большевиков
многое продумали заранее. «С тревогою “древнего
хаоса”, охватившей Россию, — писал Степун, —
немецкий беспорядок не имел ничего общего. Это
был тот простой профессиональный беспорядок, что
неизбежен на всякой фабрике во время расширения
дела и установки новых машин».
В России же царил полнейший беспорядок,
спасительный, по мысли Степуна, хаос, в котором
«осмотрительному человеку было возможно
укрыться от глаз Чека».
Наскоро созданный большевиками
партийно-государственный аппарат работал из рук
вон плохо, и его беспомощность давала небольшой
простор для свободы, которой самому мыслителю
удалось воспользоваться в течение нескольких
лет перед отъездом на Запад.
Для Степуна революция — это прежде всего распад
религиозно-социальной и культурной целостности
страны. Ее победа — свидетельство раскола
единого национального сознания.
Он видел трех основных действующих лиц,
разыгравших эпилог трагедии русской истории
1917—1922 гг.: народ, интеллигенция,
правительство. Завязка же этой трагедии началась
со встречи «просвещенско-рационалистической
идеологии Карла Маркса с темной маятой русской
народной души».
Если же вписать эту мысль в более широкий
религиозно-культурный контекст, то речь у
Степуна идет о встрече утрачивающей свою
религиозность западноевропейской культуры с
русской религиозностью — со всеми ее сильными и
слабыми сторонами.
«Культурно-хозяйственную убогость» русской
жизни Степун объяснял природно-климатическими и
историческими условиями, которые также связывал
с особым характером русской революционности,
определяя ее как «почвенное противление
культуре». Речь идет об активном сопротивлении
земному благоустроению» — с соответствующими
последствиями для всей русской жизни.
![]()
Несмотря на крайне негативное отношение к
революционным событиям, Степун не хотел покидать
Россию. Он хотел «распутать путаницу»,
содействовать тому, чтобы народ верил в Бога, а не
в Карла Маркса.
О своем нежелании уехать из России Степун прямо
написал в анкете, которую ему дали заполнить в ЧК
незадолго до высылки. Анкета содержала три
вопроса:
1) каково ваше отношение к советской власти;
2) каково ваше отношение к смертной казни;
3) каково ваше отношение к эмиграции?
Вот полный текст ответов Степуна на эти вопросы:
«1. Как гражданин Советской федеративной
республики я отношусь к правительству и всем
партиям безоговорочно лояльно; как философ и
писатель считаю, однако, большевизм тяжелым
заболеванием народной души и не могу не желать ей
скорейшего выздоровления.
2. Протестовать против применения смертной казни
в переходные революционные времена я не могу, так
как сам защищал ее в военной комиссии Совета
рабочих и солдатских депутатов, но уверенность в
том, что большевистская власть должна будет
превратить высшую меру наказания в нормальный
прием управления страной, делает для меня всякое
участие в этой власти и внутреннее принятие ее —
невозможным.
3. Что касается эмиграции, то я против нее: не надо
быть врагом, чтобы не покидать постели своей
больной матери. Оставаться у этой постели —
естественный долг всякого сына. Если бы я был за
эмиграцию, то меня уже давно не было в России».
![]()
В трудах Степуна пристальное внимание
уделяется проблеме труда и трудовой этики.
Низкий уровень трудовой активности россиян он
связывал с политической нестабильностью, прежде
всего с революцией. Он полагал, что этика, в том
числе трудовая, — один из мотивов всякой
общественной деятельности.
Оценку роли подобных стимулов, принадлежащую
французскому социологу Эмилю Дюркгейму и
развитую затем американским социологом Талкотом
Парсонсом, можно свести к следующему: рыночные
отношения будут нормально функционировать лишь
тогда, когда в обществе установится здоровый
нравственный климат. Необходимым условием
функционирования рынка, по мнению Парсонса,
является религия или нечто иное, способствующее
установлению строгих нравственных устоев. Иными
словами, мораль рассматривается как одна из
важнейших предпосылок развития нормальных
рыночных отношений.
Предполагаются, в частности, уважение к закону,
чужой собственности, честность в партнерстве,
уважение к контрактам и т.п., — что формирует
определенные моральные границы развития
экономики в условиях рыночной конкуренции.
«Слишком во многом приходится опираться на
нравственность даже после того, как создана
действенная структура стимулов», — замечает
руководитель Центра институциональных реформ
Мэрилендского университета в США М.Олсон.
Не вызывает сомнений, что нравственность —
действительно дефицитный ресурс, и не только в
России.
![]()
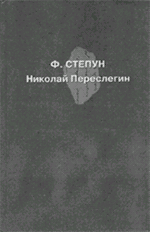 Выдающийся французский социолог и
общественный деятель Франции середины XIX в.
Алексис де Токвиль успехи Великой французской
революции объяснял, в частности, наличием в
стране «праздного класса», отсутствием навыков
предпринимательства, недостатком деловитости у
большинства французов. Именно в том, что они «в
наибольшей степени» утратили деловой навык,
Токвиль видел одну из важнейших причин столь
широкого участия в революции масс.
Выдающийся французский социолог и
общественный деятель Франции середины XIX в.
Алексис де Токвиль успехи Великой французской
революции объяснял, в частности, наличием в
стране «праздного класса», отсутствием навыков
предпринимательства, недостатком деловитости у
большинства французов. Именно в том, что они «в
наибольшей степени» утратили деловой навык,
Токвиль видел одну из важнейших причин столь
широкого участия в революции масс.
Он упомянул об этом вскользь, не расшифровывая
это тонкое замечание, однако исключительную
глубину данного наблюдения оценили некоторые из
тех, кто впоследствии изучал как французскую
революцию 1789 г., так и российскую 1917 г.
Политика всегда была важным фактором, который во
многом влиял на формирование отношения русского
человека к труду. По сути, вся русская история с
постоянно повторяющимися смутными временами не
способствовала выработке веры в честный,
постоянный, не авральный труд и в законное
хозяйствование.
«Нет ничего более вредного и даже гибельного для
страны, для всякой страны, как подрыв этой веры и
угасание ее в народе, — писал русский философ
И.А.Ильин. — И не то чтобы думалось: “От трудов
праведных не наживешь палат каменных”, на
каменные палаты расчет вообще невелик. Здесь
настроение гораздо более глубокое и трагическое.
Оно может быть выражено словами: “При таких
порядках работать на земле не стоит, надо
промышлять иначе”».
Глубокие и интересные наблюдения о влиянии нашей
отечественной «неделовитости» на развитие
общественно-политических процессов в России
можно встретить в трудах П.Я.Чаадаева,
К.Д.Кавелина, Н.А.Бердяева, В.О.Ключевского,
Г.П.Федотова...
Внимательно всматривался в природу российского
отношения к труду «до и после революций» и Федор
Августович Степун.
Этот круг проблем так или иначе затрагивался во
многих его произведениях, не исключая
беллетристику и мемуары. Так, уже в самом начале
романа «Николай Переслегин», опубликованного
еще в 1929 г. в Париже и местами напоминающего
дневниковые записки самого автора, Степун устами
главного героя признавался в том, что, очевидно,
было присуще ему самому на протяжении всей его
жизни: «Тяготеет над душой какой-то нелепый долг
постоянной работы, какая-то боязнь простой,
свободной жизни».
В этом, как и в некоторых других произведениях
Степуна, трудовая этика гармонично
переплеталась с артистической этикой,
несовместимой, с его точки зрения, со «штампами
мертвого морализма» — законами и предписаниями.
В этом отношении весьма характерен фрагмент
одного из писем Николая Переслегина любимой
женщине — Наталье, в котором говорится о старом
немецком гравере по дереву, напомнившем герою
образ Иеронима, созданного художником Дюрером.
Этот мастер преисполнен благоговейной любви к
своему делу: «Поразительно было в нем то, что его
любовь к своему искусству не была только
профессиональной страстью, но живым, религиозным
центром исключительно мудрого отношения к людям
и к жизни. Смотря, бывало, как он выбирает доску
для новой работы, как внимательно вращает ее в
наморщенных старческих пальцах, как ласково
приводит по ней чуткой желтой ладонью, я не раз
думал, что если бы все люди уподобили свое
отношение к жизни его отношению к своему
материалу, если бы все мы поняли, что каждый
предстоящий день и час представляет собою белую
доску, готовую принять в себя запечатление
творческого духа, если бы все мы пробудили в себе
настоящих художников жизни, как мой старик,
вдохновенных в своих концепциях и расчетливых в
своем мастерстве, если бы стали мудрыми
граверами по самому благородному и
благоуханному дереву, по вечному древу жизни, то
все нравственные вопросы разрешились бы
одновременно и легко и глубоко помимо всех
скрижалей, заповедей и законов».
Представляет известный интерес в связи с этим
определение творчества, которое дал Степун в
работе «Природа актерской души»: «Творчество
означает для меня ... некий модус жизни, некую
специфическую позу души в ее противостоянии
жизни». Человек должен стать «зодчим собственной
души», понимать творчество, прежде всего как
работу над собой, как «расширение своего бытия,
реализацию своего многодушия».
Подлинное творчество, по мнению Степуна,
существует в двух вариантах — как тяготение к
действительности и как приверженность мечте. И
то и другое представляет собой две равноценные
полусферы жизни. В ряде произведений
мыслитель распространяет это положение — от
души актерской к любой душе вообще.
![]()
В ранней статье Степуна «Жизнь и творчество»
представлена философская антропология, его
учение о человеке, «смысл которого сводится к
разделению людей на типы в зависимости от того,
как в их душе соотносятся начала жизни и
творчества».
Зоркий наблюдатель, Степун заострял внимание
читателей на определенном типе сознания,
подготовлявшемся эпохой Октября и отражавшемся
на творчестве. Для такого умонастроения
характерно то, что впоследствии Степун назвал
«метафизическим одичанием».
Для Степуна искусство, творчество, деяние равно
любви. Любовь для него есть некая религиозная
вершина глубочайшего искусства, имя которому
жизнь. Полюбить другого, объясняет Николай своей
возлюбленной Наталье в романе «Николай
Переслегин» — «разве это не значит избавить друг
друга от всего случайного и бесформенного,
пластически обрести строгий ритуал в жизни,
стать друг другу материалом и формою».
Чем не работа мастера по дереву, или живописца по
холсту, или скульптора по камню! Истинная любовь,
по Степуну, — это своеобразный «вклад в
дарохранилище мира», подарок истинного творца.
Как и герой его романа, Степун — реалист, можно
сказать больше, протестант, часто педантичный и
прагматичный. Даже любовь для него — прежде
всего искусство. Кроме вдохновения, она требует
«умного расчета и умелого мастерства».
Да и не только любовь — вся человеческая жизнь
должна быть построена на «страстном отрицании в
подходе к ней того дилетантизма, на котором она
обыкновенно строится». Одним словом, в мире
людей, где всё, по мысли главного героя романа,
состоит из «борьбы, воли и труда», любовь не
должна оставаться какой-то «глупенькою
незабудкой, растущей у счастливо журчащего
ручейка», ибо она тоже труд.
К проблеме трудовой этики Степун обращался и в
мемуарах «Бывшее и несбывшееся». Осмысливая
прожитую жизнь, он задавался вопросом, почему его
всегда преследовало неодолимое желание
трудиться, даже тогда, когда, казалась, в этом не
было большой необходимости? И приходил к выводу,
что эту страсть он впитал буквально с молоком
матери от своих предков, в частности от деда по
материнской линии, настоящего кальвиниста;
причем кальвиниста «не в религиозном, а в
раскрытом Максом Вебером социологическом смысле
этого слова».
Дед Степуна работал не для того, чтобы жить, а жил
для того, чтобы работать.
Истовый труд всегда восхищал Степуна, кто бы ни
был его носителем — немецкий мастер по дереву
(«Николай Переслегин») или русский кулак («Бывшее
и несбывшееся», «Чаемая Россия»). В кулаке
мыслителя особенно привлекала кипучая энергия,
работоспособность, мужество, смекалка, особая
ловкость, с какой зажиточные мужики «справлялись
со своею трудною и опасною жизнью».
Тема сельского труда нередко возникает на
страницах «Бывшего и несбывшегося». Степун
сравнивает латышских фермеров и русских
крестьян, с которыми был знаком не понаслышке.
Сравнение это явно в пользу соотечественников.
Латышские фермеры работают истово, однако в
отличие от них русские крестьяне обладают такими
ценными, с точки зрения Степуна, качествами, как
выдумка, широта и способность идти на риск,
которые с лихвой покрывают истовость латышей.
Как бы в подтверждение этой мысли Степун
приводит цитату из четвертой главы шестнадцатой
книги знаменитых «Идей» немецкого философа
Иоганна Готлиба Гердера: «Прилежные славянские
племена еще превратят свои земли в цветущие сады
и сменят Запад, от которого уже отступается
Провидение, на посту возглавителей
человечества».
![]()
 Ф.А.Степун не раз задавался вопросом —
почему между революцией в России и революцией 1918
г. в Германии гораздо меньше общего, чем между
Октябрем 1917 г. и Французской революцией 1789 г.?
Ф.А.Степун не раз задавался вопросом —
почему между революцией в России и революцией 1918
г. в Германии гораздо меньше общего, чем между
Октябрем 1917 г. и Французской революцией 1789 г.?
Русскую и германскую революцию объединяют эпоха,
идеи, организационные формы; обе революции
произошли почти одновременно, обе в известной
степени стали результатом одной и той же войны,
обе организовали советы рабочих и солдатских
депутатов. И вместе с тем...
Главную причину поражения германской революции
Степун видел в том, что она с самого начала была
идейно обескровлена, отяжелена немецкой
деловитостью. Ей противостояла «партия деловых
людей», которая смогла взять верх над идеологами
как левого, так и правого лагеря. «В России таких
деловых гасителей революционного пламени не
нашлось».
Победа российской революции была во многом
обеспечена отсутствием «во всех нас, ее творцах и
деятелях, духа творческой созидательности и
законопослушной деловитости». В России,
отсутствовала европейская выдержка, не было
«европейской политической вышколенности».
«Эта связь идейной напряженности и какой-то
высшей неделовитости, прекрасно уживающейся с
напряженнейшею деятельностью, — писал Степун, —
представляется мне очень глубокою и очень
страшною проблемой». Может быть, в ней, в этой
связи, и надо прежде всего искать ответа на то,
почему русский мужик был наречен русской
революцией пролетарием, пролетарий —
сверхчеловеком, Маркс — пророком
сверхчеловечества, и почему вся эта фантастика
одержала в России столь страшную победу...
Подобно Чаадаеву, Степун придавал большое
значение природно-географическим и
климатическим особенностям России. Он считал,
что отношение россиян к труду во многом связано с
фактором пространства, сыгравшем пагубную роль.
Впрочем, некоторые исследователи, напротив,
считали (и считают), что фактор пространства,
например в США, сыграл роль положительную,
приобщив американцев к систематическому труду.
В чем же дело, отчего во многом сходные условия
породили столь разные результаты? К.Д.Кавелин
отвечал на этот вопрос лаконично: «Культура».
Если, как писал Н.Бердяев, «русская душа
подавлена необъятными полями и необъятными
русскими снегами ... утопает и растворяется в этой
необъятности», то душа американца
раскрепощается от простора, получает стимул для
инициативы и предпринимательства. Американец
жаждет овладеть этим пространством и
«организовать» его.
За четыре сотни лет территория России
увеличилась в 36 раз. Этот непреложный факт
российской истории во многом определил не только
стиль русского земледелия, но и в известном
смысле стиль «всякого русского делания и
творчества».
«Труд, положенный русским народом, — писал
Степун, — на создание державы Российской, был,
конечно, громаден, и всё же он никогда не был тем,
что под словом труд понимает трудолюбивая
Европа, что под ним ныне понимаем уже и мы: он не
был упорною, медленною работой, систематическим
преодолением сопротивления материала
специально изобретаемыми для того средствами...
Читая любую русскую историю, получаешь
впечатление, что русский народ не столько
завоевывал землю, сколько без боя забирал ее в
плен. Эта военнопленная земля работала на
русский народ, работала без того, чтобы он сам на
ней по-настоящему работал».
Так столетиями создавался в России стиль
нерентабельного хозяйствования, психология
«безлюбого, варварского отношения к любимой
земле».
Русский крестьянин никогда не был суверенным
хозяином земли (Степун различает три формы
отношения русского крестьянина к земле:
отношение «кочевого колонизатора», когда Россия
значительно расширила свои владения после
освобождения от татарского ига; отношение
крепостного — после окончательного его
закабаления в XVI в.; отношение общинного
крестьянина — после освобождения от
крепостничества, которое, однако, не сделало
русского хлебопашца подлинным хозяином).
Будучи «кочевым колонизатором», крестьянин
пользовался ею хищнически — земли было много,
дорожить ею не приходилось. Став крепостным,
русский крестьянин тем более не мог испытывать
большой любви к барской земле, обрабатывал ее
из-под палки. Впрочем, и помещики в пореформенной
России вели хозяйство примитивно и редко
предпринимали попытки что-либо изменить.
После отмены крепостного права в 1861 г. отношение
к земле почти не изменилось. Крестьянский труд
использовался в экономике страны крайне
нерентабельно, что впоследствии, с точки зрения
Степуна, отразилось на характере революции.
Крестьянин по-прежнему был лишен тех
благоприятных условий, которые воспитывают
любовь и уважение к труду. И не только и не
столько на характер народа влияют климат, почва и
ландшафт, полагал Степун, — правильнее
утверждать, что каждый народ селится в тех
пространствах, которые соответствуют его
сущности.
«Работа воспитывает только в том случае, если
выполняется она с любовью и осведомленностью...
Она расширяет горизонт, если работающему
человеку становятся понятными связи между его
работой и экономическим целым». Эти связи у
русского крестьянства отсутствовали; положение
усугублялось еще и тем, что земледельцы были
почти безграмотными, подозрительно относились к
«умным агрономам», сопротивлялись новым методам
ведения хозяйства, использованию
сельскохозяйственных машин.
![]()
Русская революция, полагал Степун, прошла бы
тише, приглушеннее, рациональнее, если бы русское
крестьянство за пятьдесят лет до нее
превратилось бы в культурных собственников.
Впрочем, знакомый во все времена в России стиль
«бездуховного отношения к труду» Степун находил
не только в крестьянстве, но и в интеллигенции. Он
выделял три присущие ей черты:
1) почти религиозная жажда служения и подвига;
2) страстная одержимость безрелигиозной
идейностью;
3) стремление к действию при наличии доходящей до
бездельности неделовитости.
Вот одно из характерных высказываний мыслителя:
«Нет сомнения, что наиболее значительным людям
канунной России определенно не хватало
деловитости и религиозной трезвости. На реальные
запросы жизни передовая интеллигенция всех
окрасок и направлений отвечала не твердыми
решениями, а отвлеченными идеологиями и
призрачными чаяниями. Социалисты чаяли
“всемирную социальную революцию“, люди “нового
религиозного сознания” — оцерковление жизни,
символисты — наступление теургического периода
в искусстве, влюбленные — встречи с образом
“вечной женственности” на розовоперстой
вечерней заре. Всюду царствовало одно и то же:
беспочвенность, беспредметность, полет и
бездна».
К этому добавилось вырождение двух важнейших
направлений российской
общественно-политической мысли —
славянофильства и западничества. Первое, не
осознав пафоса общественно-политической
свободы, выродилось в реакционную катковщину,
усвоило идеи Победоносцева, а второе породило
революционную интеллигенцию.
Во многом по вине этой выродившейся
интеллигенции двух направлений стал возможен
«поджог» России.
Долю вины за революцию Степун возлагал и на
Церковь, ибо в православии слабо развито учение о
мире, об отношении Церкви к государству, о
социальных обязательствах власти, о правах
человека и гражданина. К тому же православная
Церковь никогда не знала идеи естественного
права, на котором покоятся все права человека
и гражданина. Одним словом, Церковь оказалась
глуха к земному устроению.
В ряде работ Степун полемизирует с Бердяевым,
утверждавшим, что Россия всеми своими грехами,
даже со всем своим богоборчеством, атакует небо,
в то время как Запад даже своими добродетелями
«служит земле». Степун предпочитал определять
большевизм как «грехопадение русской
национальной идеи»; Октябрьскую же революцию он
считал «религиозной трагедией».
В связи с этой темой философ поставил вопрос,
тревоживший мыслителей, близких Церкви: не
является ли одной из важнейших причин победы
большевиков не только подчинение Церкви
государству, но и взятая ею на себя защита
узкополитических, частично сословных и
классовых интересов — в ущерб общерусским
социальным и культурным интересам.
«Если бы Синод, — писал Степун в статье
“Москва — Третий Рим”, — сумел отстоять свою
самостоятельность по отношению к государству,
если бы он не допустил пленения Церкви и взял бы
под свою защиту назревшую тему духовной и
социальной свободы, то, быть может, Церковь и
смогла бы на полпути встретиться со
свободолюбивой интеллигенцией и тем уберечь ее
от религиозного мракобесия ленинизма».
Но отчего встреча эта не состоялась? В свое время
Мережковский ответил на этот вопрос. Как отметил
Степун, он связал политический индифферентизм во
всем покорной государству Церкви с
особенностями мистически-аскетического
православия, идущими от Нила Сорского,
оправдывавшего молчание Церкви перед власть
имущими ссылками на то, что православию (в
отличие от католичества) «чужда тема земного
устроения человечества».
Степун был согласен с такой трактовкой одной из
причин своеобразного поведения духовенства во
время революции, но присовокуплял еще одну, уже
упоминавшуюся: православие в отличие от
католичества не освоило учения о естественном
праве, согласно которому каждому человеку от
рождения дано не отменяемое никакими законами
«исконное право на жизнь в свободе и исповедание
истины».
«Такого понимания права, — писал Степун, —
Россия — страна большой совести — не знала, что,
бесспорно, сказалось на приглушенности ее
формального правосознания». И далее: «Может быть,
этой особенностью русского сознания объясняется
то, что религиозное требование погашения
человеком своей грешной самости сравнительно
легко перерождалось в обезличение человека
перед лицом государственной власти».
![]()
О революции Степун размышлял до самой смерти.
Заканчивая в конце 1948 г. свой двухтомный труд
«Бывшее и несбывшееся», он замечал: «Хотя мы
только то и делали, что трудились над изучением
России, над разгадкой большевистской революции,
мы этой загадки всё еще не разгадали».
И совсем уже в конце: «Каюсь, иногда от
постоянного всматривания в тайну России, от
постоянного занятия большевизмом в душе
поднимается непреодолимая тоска и возникает
соблазн ухода в искусство, философию, науку. Но
соблазн быстро отступает. Уйти нам нельзя и
некуда».
Особый интерес представляют высказывания
Степуна о конкретных путях преобразований в
посткоммунистической России, хотя, как замечал
он в своей последней статье «О будущем
возрождении России» (написана за несколько дней
до внезапной кончины), он еще не различает в
России «политического оформления духовного
протеста». Отсутствуют всякие представления о
том строе, который может возникнуть на руинах
старого.
Мыслителя пугал возможный коренной слом всего
существующего экономического и политического
механизма. Он предвидел, что новая
послебольшевистская Россия будет
«малочувствительна к свободе», хотя для ее
творческой элиты (на нее он, собственно, и
рассчитывал) свобода будет, бесспорно, важнейшей
ценностью.
«Страшно подумать, если в порядке какой-нибудь
новой идеократической перелицовки на голову
освобожденных русских граждан снова обрушится
всё то, что уже было: на ... авансцене
долгожданного переворота — флаги и медные трубы,
марши и шпалеры, сиплые голоса ораторов и бурные
аплодисменты, а по низу, у ног марширующих и за
спинами витийствующих, шепоты измен и
провокаций, ведущие к виселицам и расстрелам.
Какая безысходная тоска и угнетающая скука».
Мысли Степуна о будущем России образны, даже
поэтичны, хотя и не лишены явного утопизма. После
падения советской власти ему виделась некая
историческая пауза, или, как он писал, «секунда»,
когда должен решиться вопрос: кто одержит в
России верх — Христос или Антихрист.
![]()
 Большие надежды возлагал Степун на
«всенародно преобразующий труд», на создание
трудовой и нравственной связи человека с землей,
с миром природы.
Большие надежды возлагал Степун на
«всенародно преобразующий труд», на создание
трудовой и нравственной связи человека с землей,
с миром природы.
«Мне лично, — писал Степун, — Россия,
обрабатывающая землю исключительно в
колхозно-коллективном порядке, никак не видится,
и я уверен, что тяга к своей земле проснется с
очень большою силою».
Будущее политического устройства России
виделось Степуну смутно: «С трудом
представляется превращение России, жившей
пятьдесят лет под большевистским гнетом, в
западноевропейскую парламентскую демократию, —
писал философ в 1965 г. — Некое начало
твердовластия должно быть внесено в будущий
коллектив. Такому же твердовластию пора, впрочем,
войти в духовнопустогрудую и экономически
жадную демократию Запада. Все последние
диктатуры были попытками управлять массами
путем насильнической лжи. Из отрицания этой лжи
отнюдь не следует отрицания творческого
значения истины в общественной жизни народа».
Нетрудно заметить, что точка зрения Степуна
весьма близка вере Солженицына в то, что Россия
наконец должна начать жить «не по лжи»; ее
будущее печально, если она будет продолжать жить
«без праведников».
Степун же уповал на «социальное христианство»,
которое сможет преобразовать Россию.
Крушение большевизма в России Степун связывал с
изменением сознания широких слоев общества, со
становлением его национального сознания, с
«надеждой на духовный рост оппозиционного
комсомольца, на обострение критического
сознания советского студента и ученого, на
пробуждение в новом советском человеке чувства
национальной ответственности за всё то страшное,
что его советская власть сделала с Россией, на
бунт русской совести и на неизбежную в свете
этого бунта встречу практически делового
активизма потерявшей веру в Маркса советской
молодежи с тою высшею духовою активностью,
которая за годы большевистского господства была
проявлена лучшими русскими людьми, мучениками за
веру и родину».
Для работ Степуна, объединенных в книге «Чаемая
Россия», в мемуарах «Бывшее и несбывшееся», как,
впрочем, и для многих других его трудов,
характерна воспитанная богатым опытом философа
способность «думать глазами» и в меньшей степени
основываться на идеологических точках зрения.
«Идеологиям» мыслитель противопоставлял
видение события, процесса, факта.
Можно по-разному относиться к мыслям Ф.А.Степуна,
соглашаться или спорить с ними, но нельзя,
думается, не признать, что они продолжают
оставаться участниками полемики сегодняшнего
дня с его «страстями стравленными» (М.Цветаева).